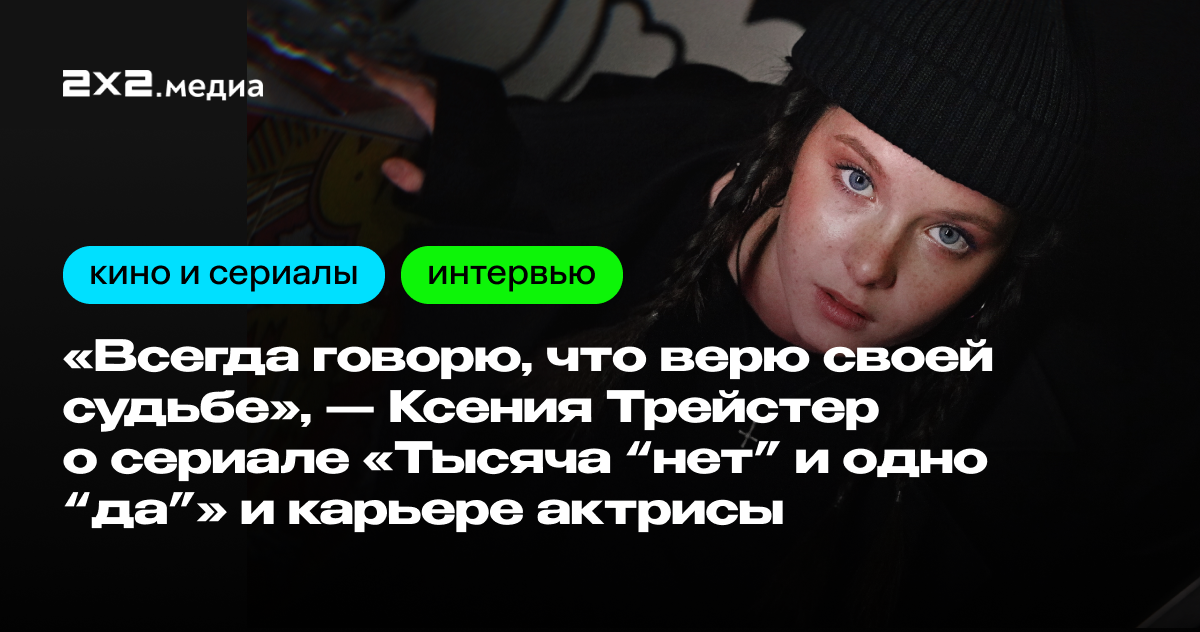5 ноября в онлайн-кинотеатре Wink стартует сериал «Нам покер» Рустама Ильясова, режиссёра «Трудных подростков». История рассказывает о двух братьях, решивших в поиске быстрых денег открыть подпольное казино. Петя Скворцов, один из актёров проекта, поделился деталями и рассказал, как относиться к профессии играючи, не готовиться к пробам, а также почему важно уходить оттуда, где плохо.
— Твой герой появляется в конце первого эпизода сериала: «накрывает» подпольное казино студентов и требует деньги за молчание. Расскажи подробнее о персонаже.
— Я играю полицейского в расцвете сил, но в глубочайшем кризисе. Мне почему-то очень нравится анализировать героев, потерявших смысл жизни. Кажется, это самое мощное, что может произойти. В этом пограничье он отчаянно борется за своё счастье, пытается найти любовь и доказать самому себе и окружающим, что это вовсе не кризис, а минутное помутнение, лёгкая неудача, случайность. На самом-то деле он настоящий хищник. Для актёра это очень благодатная почва.
— В чём заключается кризис персонажа?
— Мой герой просто не на своём месте. Занимается не тем, что могло бы принести ему счастье. Наверное, когда он выбирал профессию или устраивался на работу, у него просто не было времени подумать и понять истинную природу своих желаний. Не было человека, который подсказал бы ему правильный выбор или предложил другие варианты. А менять что-то всегда очень страшно.

— В пресс-релизе написано, что ты пришёл на пробы неподготовленным.
— Это правда. Реакция Рустама Ильясова была восхитительной, он принял мои правила. Даже подыграл: очень люблю, когда режиссёры могут примерить на себя амплуа актёров, это важно в работе. Многие считают подобное лишним и просят кастинг-директоров подкидывать реплики. А это уже не партнёрство: будто лопатой кидают фразы, на которые нужно ответить. Формальность и всё. Рустам другой. Мне кажется, если человек способен сыграть, значит, он понимает, что планирует делать на площадке.
— Как проявлялась твоя неподготовленность, ты не читал сценарий?
— Я никогда не читаю сценарий и не учу текст. Пробегаюсь по нему один раз и пытаюсь из того, что зацепило сознание, выстроить целостную картину. Ищу маленькие крупицы, которые отсылают к глобальному. И если сценарий хороший, по синтаксису своего персонажа можно довольно точно выстроить общее видение истории.
И это самое крутое, что может быть. Необходимо мгновенно запрыгнуть в эту пучину. Дальше уже начнёт действовать тело: организм будет выдавать вещи, до которых я не в состоянии дойти сознанием. Когда что-то придумано головой, а не органикой, это всегда чувствуется. Оно менее живое. И этот первичный момент для меня очень любопытен, он доставляет куда больше удовольствия, чем дальнейшие съёмки.
— Как часто подобная неподготовленность играет в минус?
— Иногда это просто смущает режиссёров, которые могут счесть подобное поведение неуважением к ним или выбранному материалу. Они начинают возмущаться, а я оправдываться. Тогда всё идёт не по плану и божественной случайности не выходит. Остаются лишь строгие взрослые и обыкновенный двоечник.


— Но во время съёмок ты ведь учишь текст?
— Конечно, дальше первое впечатление, о котором я уже говорил, не возобновить, поэтому приходится готовиться, всё вычитывать. Начинать большую работу, а это самое скучное.
— А в театре имеет место методика неподготовленности?
— На первых этапах, если режиссёр умеет работать этюдами. Актёр прочёл текст, встал и мгновенно начал реализовывать, просто ставить на ноги мысли и наблюдать. Кажется, об этом писал Станиславский, которого я, к сожалению, не читал. Он говорил, что вот этот дебютный образок, который маячит вдалеке от сознания, вот эта вспышка, и есть самое точное. И актёру не надо часами сидеть над материалом и вести дневники персонажей, как делают многие. Неподготовленность — это круто.
— О книгах: придя на интервью, ты достал из широких штанин Пруста. Почему сегодня с тобой именно он?
— Решил в очередной раз прорваться через пятую книжку. Четыре уже прочёл, во что мне очень сложно поверить. А вот эта никак не поддаётся. С прошлыми вообще знакомился в разных переводах, но приятнее всех — версия Елены Владимировны Боевской. Пятой книги в её интерпретации пока нет, поэтому приходится читать Любимого, а он очень сложно идёт. Я вообще редко читаю, если честно. Начал после карантина и с тех пор тихонечко взрослею.

— Одна-две истины, которые за время чтения Пруста, ты для себя вынес?
— Что мир вокруг меня не вращается, а живёт сам по себе. И всякая попытка приписать ему желание меня задеть, оскорбить или похвалить лишь свидетельствует о моей незрелости. И ни о чём больше.
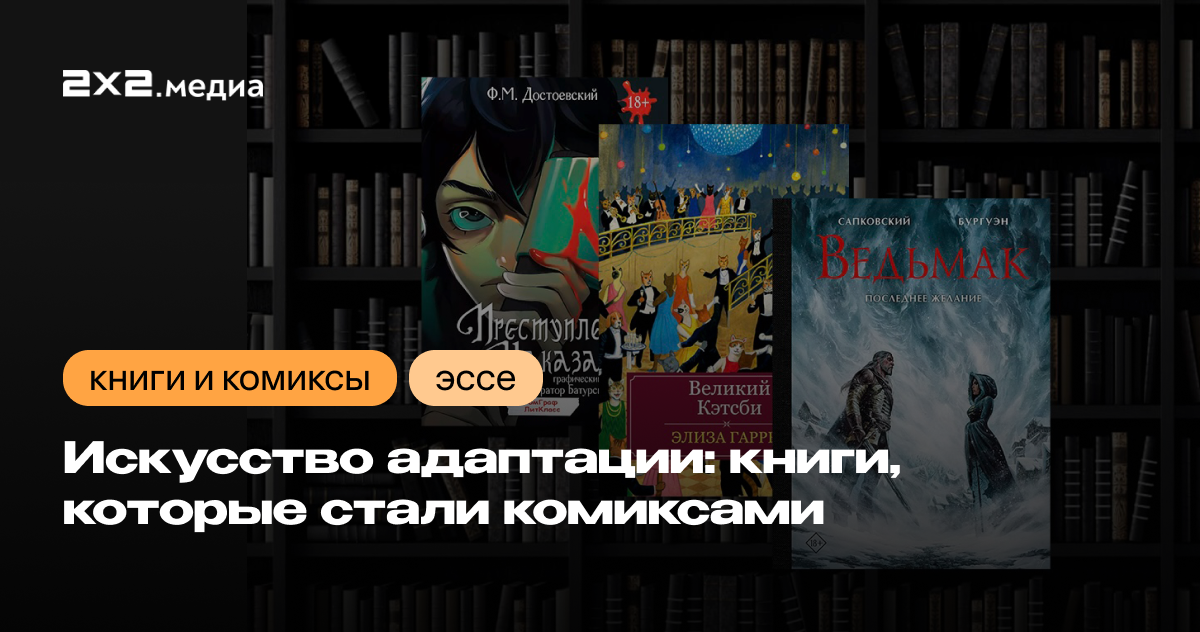
— Эта истина огорчила или освободила тебя?
— Её не так просто применить. Нужно дорасти, чтобы она вошла в обиход. Пока не получается. Мне кажется, всё вокруг происходит для того, чтобы меня обидеть.
— Какие две-три книги ты прочитал за последнее время, помимо Пруста?
— Читаю обалденную книжку «Анатомические поезда» о миофасциальной сети, которая пронизывает тело целиком. Как я понял, примерно весь период существования анатомии она просто не бралась в расчёт. Врачи изучали только отдельные составляющие: кости, мышцы нервную и кровеносную системы. А соединительная ткань почему-то добилась внимания только сейчас. Выяснилось, что, работая с ней, можно решать очень многие проблемы. Эта литература предназначена для тренеров и массажистов — людей, работающих с телом. Она удивительно написана: я ознакомился с предисловием и начал совершенно иначе себя ощущать. «Питера Пэна» тоже недавно брал в руки, так как делал читку и хотел поставить спектакль, до которого пока не дошли руки.
— Не было предвзятости насчёт перевоплощения в коррумпированного полицейского, чей образ плотно вжился в отечественную культуру, породив кучу сериалов и фильмов?
— Нет, тут совсем другая история. Это лишь форма для моего героя, на самом деле он очень нежный человек. Меня смущает, когда за этой самой оболочкой не стоит ничего, когда я ровно то, что играю. Тут сюжет не о полицейском, а о человечестве. Через сотрудника правоохранительных органов нам удаётся рассуждать на какие-то важные вещи. Герой трогателен в том, что ничего не понимает. Часто несведущие люди агрессивны, мой нет, что и подкупает.


— Кажется, тупые люди агрессивны, когда у них чрезмерно работает ЧСВ.
— На мой взгляд, агрессия — результат тупости в целом. Неспособности посмотреть пошире.
— В покере существует понятие «даунстрик» — полоса неудач на дистанции. Случалось ли с тобой подобное не в игре, а в профессии?
— После окончания института в 2015 году мы решили не расходиться по разным театрам, а сделать свой. Тогда мне был 21 год, тело ощущало себя довольно молодо, а подход к профессии был юношеским, когда просто нажимал кнопку большого количества энергии, она начинала литься, а я бегать и кричать, не задумываясь о смыслах.
Но мы довольно скоро начали взрослеть, а тело перестраиваться, как и голова. И стало понятно, что просто поливать зал ребячьей энергией больше не получится. Такого потока уже нет. Всё вызывает неловкость. Требовалось найти другие инструменты. И вот этот период, когда одни вещи перестали работать, а другие ещё не сформировались, оказался болезненным и тяжёлым. Я будто очутился в полной темноте без шанса на выход.
И ничего, кроме желания свалить куда-нибудь, перестать заниматься тем, что когда-то сильно любил, не было. Круто, что этот этап был прожит мной в рамках «Мастерской Брусникина». Я разочаровывался из раза в раз, пытался что-то нащупать, но промахивался. Мне казалось, что каждый спектакль проходит чудовищно. Всё было сыграно неуклюже, не удавалось совладать ни с руками, ни с ногами, ни с голосом, ни с речью. Наверное, подобное испытывают подростки в 13−14 лет, когда тело и сознание начинают перестраиваться. Театр родился вместе с нами, в том числе вместе со мной, поэтому была возможность продолжать, а не замыкаться в себе, что очень ценно. Если бы это была не «Мастерская Брусникина», я бы просто ушёл.
Именно этот период переформирования меня и сформировал, как бы тавтологично это не звучало. После института была иллюзия, что мы всё умеем. Но это фигня. Понятно, что в нас заложили многое, но личность человека начинает прокачиваться лишь в момент абсолютного отчаяния. Без даунстрика твоя уверенность ничего не стоит.

— Сейчас у тебя какой период?
— Мне кажется, взрослая жизнь — это тотальный даунстрик, который начинается после института и заканчивается лишь в момент смерти или пенсии. Я всё ещё пытаюсь.
— Когда актёр уходит на пенсию?
— Когда перестаёт радоваться, удивляться и начинает думать, что всё умеет. Когда теряет мотивацию пребывать в постоянном тренинге. Очень часто такое встречается среди молодых людей. Некоторые борзеют слишком рано, а это уже пенсионный звоночек. Вновь возвращаемся к Станиславскому: начинают любить не искусство в себе, а себя в искусстве.
— Продолжаешь ли ты играть в «Мастерской Брусникина»?
— Только один спектакль с тех пор, как разъехалась большая часть моих однокурсников, исключительно из которых какое-то время и состоял театр. Далее уже его заполнили выпускники разных лет. Тогда стало понятно, что мне нужны только мои люди. С уходом из жизни Дмитрия Владимировича Брусникина «Мастерская» стала перерождаться в другую вещь, а с переездом моих товарищей эпоха окончательно ушла. Коллектив перетёк в другую субстанцию, не менее интересную. Просто не совсем мою. Я безумно уважаю людей, которые продолжают поддерживать жизнь этого места. И сначала новая форма вызывала азарт, но недолго: так уж сложилась жизнь. Захотелось отойти и посмотреть на себя в отдельности, потому что раньше была неразрывность. Теперь с любопытством наблюдаю за тем, что такое «я».
— Где тебя можно увидеть, помимо «Мастерской» и «Внутри»?
— В замечательном театре «Среда 21», где я играю постановку «Философия другого переулка» с друзьями Андреем Родионовым, Катей Троепольской и Егором Федоричевым. Спектакль о том, как у нас не получилось его поставить, потому что Людмила Николаевна Пятигорская, вдова философа Пятигорского, запретила использовать тексты Александра Моисеевича в России. Но впечатления от них у нас никто не забирал. В основном там звучат стихотворения Андрея и дневниковые записи Кати с 2020 года по сегодняшний день: как она работала директором «Мастерской Брусникина», заболела раком, уволилась и продолжала жить жизнь.
С Егором Федоричевым мы как раз играем в группе «Порок Гостеприимства». Вместе пребываем в музыкальной импровизации. В спектакле намеренно отказались от структуры для того, чтобы приблизить себя к ситуации подлинного диалога в момент, когда перед нами зритель. А заключается это в том, что я перманентно вынужден принимать решения: сказать, промолчать, отреагировать жестом. Как компьютер. Как-то мы делали маркет Lo-Fi DIY с Ясминой Омерович, где удалось каким-то образом прочитать «Питера Пэна». Мне безумно нравится играть, мне ревностно сидеть и слушать. Так что этот шаг стал очень важным. Неохота смотреть на кого-то. Хочется творить самому.


— Если бы тебе удалось поставить спектакль, ты был бы тем, кто и играет, и режиссирует?
— Я бы не стал играть в собственной постановке. Мне кажется, это какая-то ерунда, где обрубаешь себе сразу два канала. По итогу тебя просто нигде нет. Плюс, мне, как актёру, нужен человек, за которым будет последнее слово, который скажет, что я перебарщиваю. Потому что, если его нет, я уйду в тотальный отрыв, где всем станет неловко.
— Не так давно Саша Горчилин поставил спектакль «Никак не называется, или Бим в поисках Бо», который рассчитан на детей и взрослых и затрагивает важную тему депрессии. Для какой аудитории твой «Питер Пэн»?
— Тоже на обе. Но мне кажется, что это надуманное разделение. Не существует никаких детских спектаклей. А если даже и да, то это значит лишь то, что они ещё сложнее, хитрее и мудрее, потому что ребёнка не обманешь. У «Щенячьего патруля» это, конечно, получается, но вот у взрослых — нет.
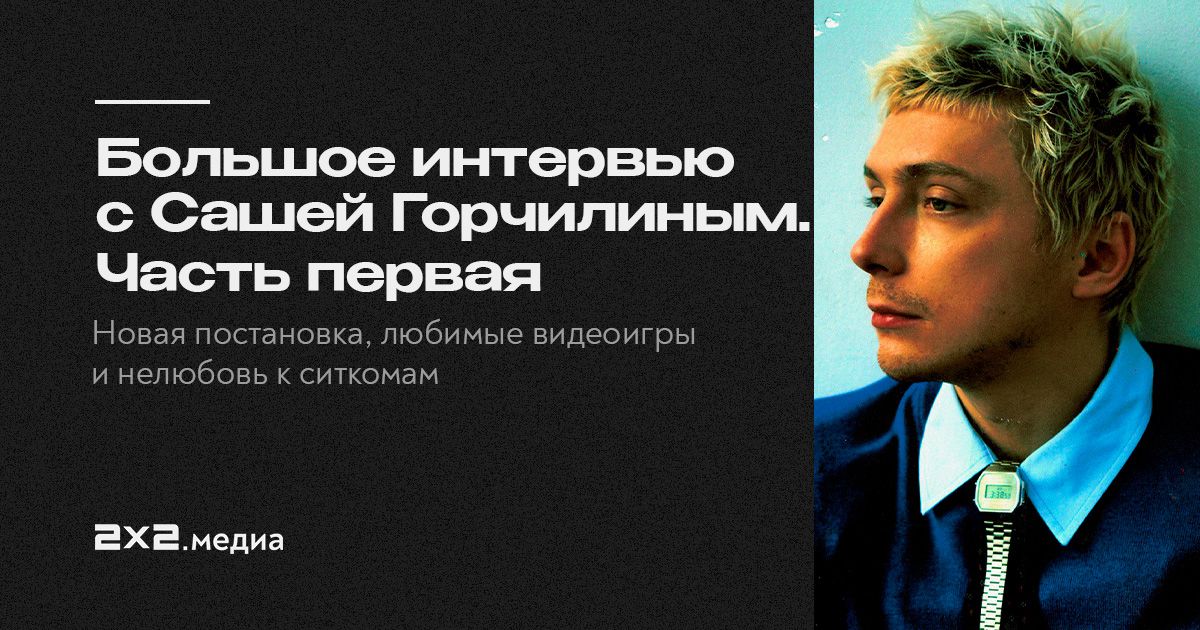
— Ты играешь в музыкальной группе «Порок Гостеприимства». Что нового у коллектива?
— Последние концерты мы гоняли с Денисом Алексеевым, о котором мало кто знает. В России есть такое явление, как «Газель смерти», за рулём которой он ездит уже 15 лет. Вот и мы отправились в тур на семь городов. Это буквально «Газель», в которую садятся музыканты и едут через всю страну, а иногда и за её пределы. Там жизнь редуцируется до трёх вещей: успеть схватить хот-дог на заправке, чтобы не умереть, переместиться из одного города в другой, чтобы успеть к саундчеку, и выступить. И это невероятное счастье для людей, которых пугает мир: в частности, быт, когда нужно что-то решать, готовить, куда-то идти. Для таких, как я. Тех, кого подобное угнетает. С приходом «Газели смерти» начинается настоящая жизнь, откуда потом тяжело возвращаться туда, где тебе никто не рад. Где никто не ждёт.
Денис Алексеев — невероятный человек. Благодаря этому проекту формируются музыкальные группы. Он собирает полных задора ребят, не понимающих, что делать со своим потенциалом, и помогает им. Ежедневное исполнение музыки перерастает в служение и перестаёт быть обычным концертом: и не важно, сколько людей в зале. В Петрозаводске вообще было три, два из которых — работники клуба. Даже когда никто не приходит, для исполнителей нет повода халтурить. В очередной раз проверяешь свой материал, а это самое главное.
Обычно молодых музыкантов ставят в начало в качестве разогрева. Однако Денис Алексеев считает, что это неправильно. Мы стали выступать перед новичками, чтобы они чувствовали ещё большую ответственность и закалялись. Эта педагогическая миссия вызывает восторг. О ней мало кто знает, но Денис всё равно продолжает своё дело. Я восхищён.

— К актёрам-музыкантам часто относятся предвзято: будто инструментально-вокальная деятельность для них — хобби, а не профессия, поэтому они не могут быть профессионалами в своём деле. Что думаешь по этому поводу?
— Отчасти согласен с этим. Люди, которые зарабатывают только музыкой, погружены в неё больше, от этого никуда не деться. Для меня это тоже хобби. Я вот очень люблю поджемить и с уверенностью могу сказать, что делать это с актёрами — совсем не то же самое, что с профессиональными исполнителями. Это всё равно, что поговорить с носителем языка и с человеком, который лишь изображает английскую речь. Надо ли артистам прекращать делать свою музыку? Нет.
Я знаю очень много людей, которые из любви к театру пошли учиться на актёров. Им казалось, что это их профессия, но в какой-то момент они поняли, что деятельность не приносит им счастье. Она стала мучением. Мне кажется, Вася Михайлов из группы «Бомба-Октябрь» — один из них. И я преклоняюсь перед такими личностями, потому что это очень серьёзное испытание. Человек, который принимает решение больше не мучиться, вызывают восхищение.
— Можешь ли ты назвать себя человеком, который способен отказаться от мучений?
— На данный момент я трусливый. Скорее найду оправдание, почему это мучение — вовсе не мучение, чем избавлюсь от него. Придумаю цель испытания, что оно во мне сформирует.

— Ты сочиняешь музыку для спектаклей. Расскажи о своей композиторской деятельности.
— Всё началось ещё в институте, где мы ставили «Бесов», а я брал на себя всю музыкальную составляющую. Просто каждый спектакль притаскивал какие-то приблуды, которые либо находил на улице, либо покупал, либо просил у кого-то погонять. За сценой было пространство, которое я максимально захламлял: привязывал проволоку к железному баку или переворачивал фортепиано и возил по струнам попрыгунчиком на палке — это реальный инструмент из академической музыки под названием Friction Ball. Мне удавалось постоянно что-то пробовать. В этом как раз заключается ещё один кайф «Мастерской Брусникина», даже в театре я мог извлекать звук из мусора, хоть и мешал коллегам.
Я могу засесть в Ableton или GarageBand и записать несколько фонограмм, как это было со спектаклем «Нур эскадрилья». Но по большому счёту моё композиторство — это звуковое любопытство. Просто притащите мне новый предмет, я достану из него мелодию. Именно это мы и делаем в постановке «Философия другого переулка»: барабаны, бас-гитара и труба перемешиваются с роликами из YouTube. Периодически в сценах всплывают фрагменты интервью: с Дмитрием Владимировичем Брусникиным, Еленой Анатольевной Греминой или Димой Волкостреловым. Они становятся частью партитуры. А так как структура импровизационная, каждый раз получается новое звучание. Это всё для меня игра, я никогда не сяду с серьёзным лицом писать что-то для оркестра.


— Кто из современных исполнителей оказывает влияние на твоё творчество?
— Хочу высказать респект группе THE IDOLS — это невероятное явление в культуре. Во-первых, ребята пишут крутую музыку. Во-вторых, переосмысляют панк и дают ему новую жизнь, делая его всё ещё актуальным. Это важно, потому что многие люди застряли в прошлом и воспринимают упомянутую субкультуру как способ очень сильно напиться, разбить кому-нибудь голову и выругаться матом, что в сегодняшних реалиях не имеет никакого смысла и выглядит глупо. THE IDOLS наделяют панк новыми смыслами, подходя к нему через абсолютную толерантность, принятие непохожести друг друга и безграничной любви, что в контексте сегодняшнего времени и есть настоящий протест против плохих взрослых.
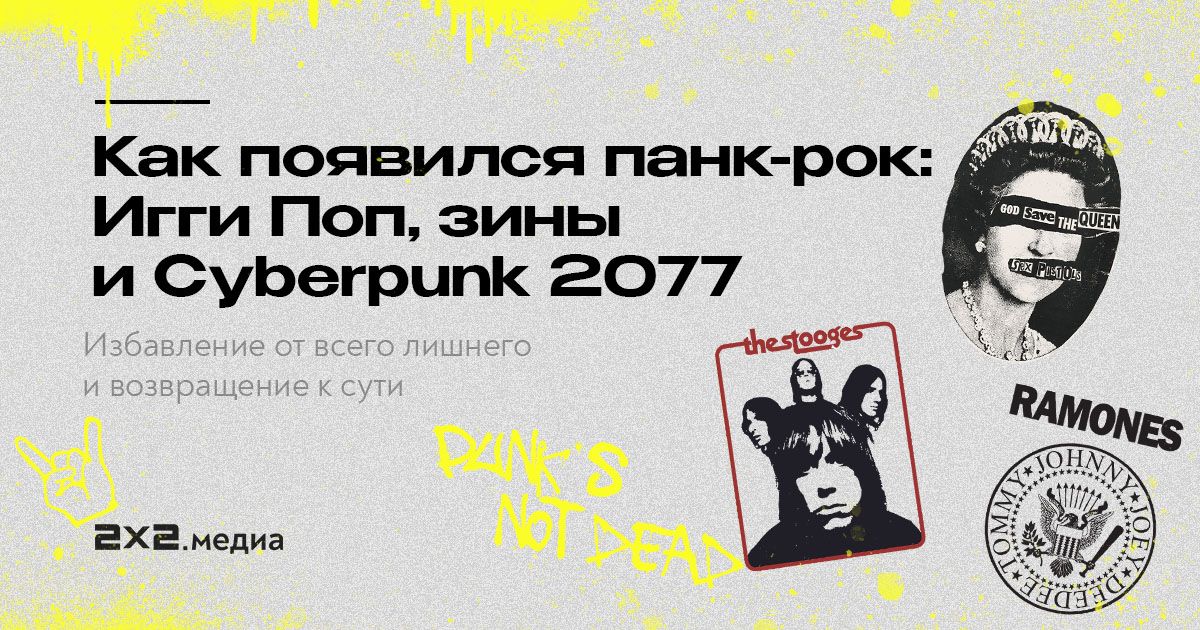
— Хотел бы создать собственную группу и заложить туда свои смыслы?
— Да, в «Пороке Гостеприимства» за всё по большей части отвечает Егор. Я даю группе поток энергии, но без меня она не перестанет существовать. Мне кажется, создание коллектива — это как появление театра. Не делается просто так, от малейшего желания. Например, Брусникин искренне не понимал, зачем Джигарханяну свой театр. И правда: зачем? Но это не моё дело.

— Как понять, что творцу точно нужен свой театр?
— Очень сложно дать ответ. Думаю, когда необходимость возникает, никаких вопросов уже не остаётся, это просто происходит. Человеческая воля важна, но не всё от неё зависит. Чему-то ещё нужно сойтись. Лишь от наличия больших денег хороший театр не сделаешь.
Так и с группой. Начну я читать рэп, кому это нужно? Хочется каких-то смыслов. Денис Алексеев сказал: «Вот мы сыграли концерт. Кому он был нужен? Да никому. Но я точно знаю, что в этом есть какой-то смысл». И это ощущение важности всего происходящего освобождает от переживаний за количество людей в зале, их ожиданий или твоих ошибок. И без него, хотя бы один раз столкнувшись с ним, уже ничего делать не хочется.